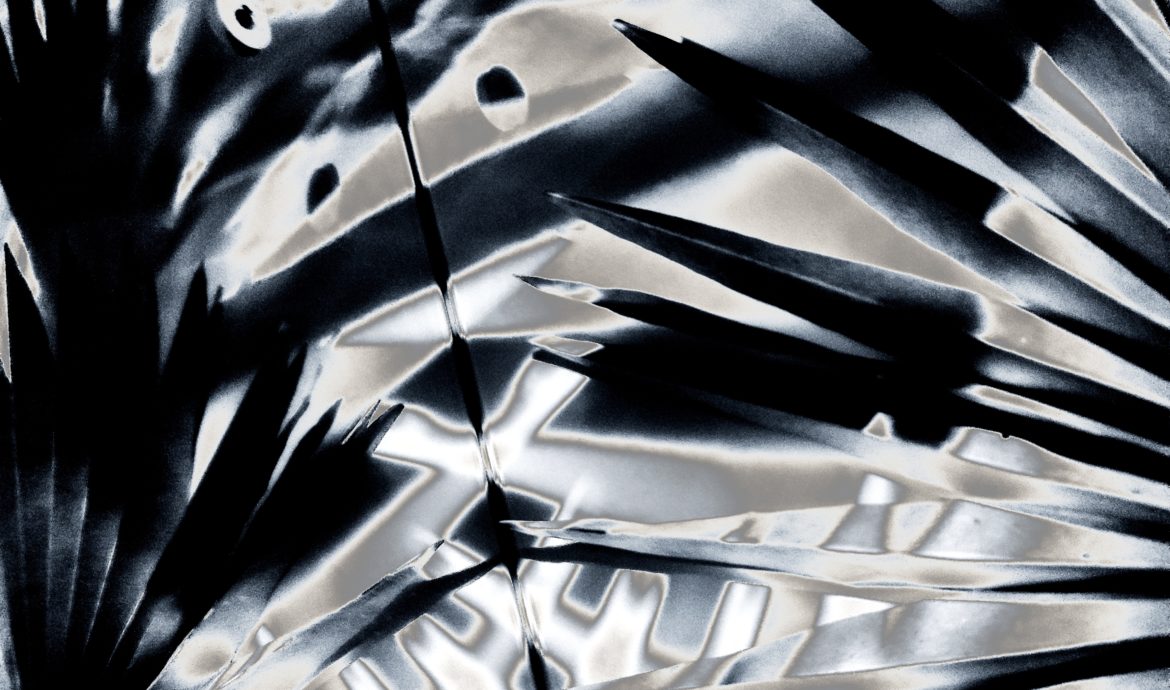
Перевод с английского Александра Фролова (под ред. Александра Уланова).
«Другое окно — жаворонок»
о Барбаре Гест
В живом и остроумном эссе Фрэнка О’Хары «Персонизм: Манифест» (1959), как и в других работах контркультурной поэтики 1950-х годов, есть место женским фигурам, хотя его общие чудаковатые и шутливые особенности усложняют желание заметить его броский, дразнящий момент. В самом деле, обнаружение этого момента в эссе помещает тебя, читатель, на скучную, лишённую юмора сторону продолжающегося веселья, изображённого как скучный спойлер лукавства.
Женская фигура в этом эссе представляет собой твердую консервативную нормативность, и даже культурные силы принуждения. Среди радостных покачиваний секс-бутербродов «Лаки Пьер»1, обтягивающих брюк, относительной скорости звёзд-студентов для Mineola Prep2, среди поэтов и друзей, которых ласково называют по их реальным именам, единственная женщина — это мать, насильно кормящая / перекармливающая своего ребенка
«каплями (слезами)»
картошкой и пережаренным мясом поэзии мейнстрима.
И снова, как часто в пятидесятые, женские фигуры оказываются в асимметричной бинарной системе, в которой они привычно игнорируются как слишком нормальные, слишком банальные. Действительно, они, по определению, должны игнорироваться, чтобы процветало что-то занятное и бойкое. Как сказал Роберт Крили в параллельном, столь же броском утверждении в другом эссе о 1950-х годах,
«Тебе придется сказать матери, что мы все еще в пути» (Эссе 376).
Отчасти шутка О’Хары заключается в том, что он насмешливо повторяет банальную современную психологию, которая обвиняет мать в гомосексуальности ребенка, в ассоциативной цепочке, которая движется от слова «кормить» к «изнеженному».
«Принудительное кормление приводит к чрезмерной худобе (изнеженности)».
Забавно, что ее забота о здоровье носит откровенно нездоровый, карательный характер. Даже женщины-писательницы могут не захотеть подлизываться к этой «матери». В других местах гораздо веселее.
Бинарные гендерные формулировки кажутся настолько первичными, такими простыми и настолько повторяющимися в культуре, что, возможно, никогда не удастся учесть их все и оценить их влияние. Если бы не феминистская рецепция, кто захочет хоть на секунду побеспокоиться о неуклюжей матери и её назойливых, настойчивых заботах? Однако именно гендерно-нагруженная бинарность О’Хары выделяется в его прозе, поскольку она является неподвижной странностью во вселенной геев и рококо его пародийного манифеста, в остальном столь подвижного для звёзд-студентов и столь радушного к женским жестам и манерам.
Действительно, следует признать, что в этом «манифесте» женское и феминное предстают как весьма разрозненные понятия, что может быть столь же полезно для женщин, как и для мужчин. Для О’Хары и других разделение женского и феминного является одной из ключевых стратегий в построении позиции мужского феминного субъекта. Хотя эта шутливая линия даже в на первый взгляд очаровательном О’Харе оставляет единственную женскую фигуру без сочувствия позади в пыли и расплющивает ее, все ещё, его неприятие этой неэмоциональной женщины – позвольте мне сказать это осторожно – составлено не только из его шарма, но и его полезности в культуре.
Все эти кружащиеся кусочки гендера и субъективности приходят мне на ум, когда я обращаюсь к подруге и коллеге О’Хары, поэтессе Барбаре Гест. Я полагаю, что Гест приложила все усилия, чтобы умножить субъективности и зрительные линии в своей работе, в попытке ничего вообще не оставить позади, ничего, рассматриваемого как неправильная половина некой прочной, структурирующей бинарности, ничего неподвижного.
Гест создает чрезвычайно подвижные субъектные позиции в своей работе, что она неоднократно подчеркивает в своих трудах по поэтике. Как будто все, что входит в эту работу, говорит своими собственными словами, из своих собственных миров, со своими собственными оправданиями. Причина, по которой работа Гест кажется такой странной, такой мимолетной, такой мерцающей, заключается в том, что она прислушивается (то есть, создаёт слова) ко всем источникам поэзии. Эта полисубъектность, эротизм, удивляющая привязанность и вечно подвижная эмпатия способствуют сложности в работе.
Наши стратегии чтения привязаны к бинарностям и, по крайней мере, к одной фиксированной позиции, с которой читатель может себя идентифицировать, в которой он может обитать; следовательно, часто существует определённая позиция, которую нужно отвергнуть (ср. мейнстрим, наполненная «каплями» мать). Эти общие места чтения часто нарушаются в стихотворении Гест. Каждая вещь, упомянутая в стихотворении Гест, каждая фраза, каждое слово (иногда кажется) получают статус объекта, который смотрит в ответ чувственным, эротическим и подвижным взглядом, стремясь войти в петлю желания и удовольствия, любопытства и исследования с другими объектами и сущностями в стихотворении. То есть всё эротизируется, но редко с каким-либо чувством понижения. Это сравнимо с эффектом многих стихотворений О’Хары; таким образом, момент в его поэтике, касающийся этой мейнстримной «матери», становится любопытным периодом, к которому следует относиться серьезно.
Я думаю, что этот эротический эффект у Гест вызван тем, что Гест называет «воображением», целью, способом похвалы и вливанием силы, которую она неоднократно пробуждает. Ее последняя книга эссе о письме называется, именно «Силы воображения». Каждая вещь наделена достаточной силой (выбора языка, стилевых сдвигов, красотой слова — но никогда только красотой, как Гест интересно настаивает), и каждый отдельный элемент (часто расположенный на разных строках), кажется, отвечает другим элементам. Этот эффект в полной мере проявляется в ее работе, например, в «Миниатюрах». Поскольку многие из этих стихотворений короткие, можно довольно отчётливо увидеть эту эротически-эмпатическую игру среди строк/элементов.
Истоком (или наиболее ярким примером) этой полисубъектности у Гест вполне может быть диалог, переговоры, игра и даже «конфликт» между поэтом и стихотворением, причем стихотворение часто изображается как утверждающее свою волю. Когда поэт осознает эту «дерзость», тогда «неожиданные напряжения войдут в стихотворение».
Когда она говорит об этих напряжениях пластичной, дерзкой полисубъектности, моделью для Гест служат «Менины»3 Веласкеса. Автономный взгляд, переплетающиеся причины взгляда, конфликтный взгляд, скрытый взгляд, зеркала и зеркальные отношения, переплетения внутреннего взгляда, художник, изображенный внутри картины, переплетения отношений покровителя и двора, и фигуры, смотрящие на зрителя — все это убедительно создано в этой картине. Наряду с этим и, возможно, потому, что это большая картина, здесь достаточно пространства, чтобы движения любого взгляда могли обрести присутствие и даже быстроту, что помогает установить то чувство узнавания — эротику присутствия, — о котором так красноречиво говорил Вальтер Беньямин.
Гест действительно знала утверждение Вальтера Беньямина о том, что между зрителем и произведением искусства существует взгляд взаимного узнавания, что «объекты», названные внутри произведения искусства или стихотворения, смотрят на наблюдателя с полного нежности, насыщенного расстояния. Она ссылается на это утверждение в «Силах воображения», когда говорит, что не человек входит в пространство картины, а пространство «выдвигается вперед» к зрителю, создавая общее место — третью местность в «углах и ракурсах», которые очень стимулируют наши индивидуальные воспоминания4. Что она сделала, так это распространила это утверждение на элементы внутри стихотворения, чтобы все они смотрели друг на друга, а также на зрителя.
Гест знакома с вопросом взгляда в лирике, вопросом точки зрения, которую можно подытожить, сказав, что обычно женские фигуры не «смотрят» из стихотворения, а только предстают взгляду в нём. Гест трансформирует эти культурные традиции гендера и взгляда, отвергая любое бинарное согласование с этими терминами, любое представление, которое ставит в невыгодное положение любого инициатора или получателя взгляда. В работе Гест множественные взгляды, эротическая насыщенность всматривания и предмета и пребывания объектом всматривания, «вещи», говорящие сами за себя и договаривающиеся между собой в языке, взятые вместе, показывают, что Гест значительно изменяет некоторые исторически нормативные материалы лирики.
Но далее она изображает стихотворение как автономную сущность, почти как человека, чья воля, эго, желания, стремления, пути, и автобиография переполняют поэта. То есть, Гест изображает, как поэт становится переполненным своим творением, стихотворением. В стихотворении есть
«присутствие», «эго»,
напор. Внутри него —
«скрытый человек».
Существует живой и герметически описанный обмен между человеком, пишущим стихотворение, который является почти
«наблюдателем», или «зрителем»
самим стихотворением в особых
«вибрациях его эго»
и тем
«свидетелем, находящимся внутри произведения искусства».
Это множество персонализированных сил (сам автор, стихотворение с его требованиями и свидетель в диегетическом пространстве внутри стихотворения) работает вместе и пересекается так, чтобы
«мы могли проложить себе путь к вершине искусства перед нами, к центру, где
раскачивается письмо, прежде чем погрузиться в пространство».
Это чувство раскачивания, движения обмена между персонализированными элементами, разрушает любую иерархическую бинарность, конечно, гендерную, но также и любую асимметрию оценки и власти, которая искажает взаимность. Это материнское и сексуальное раскачивание, что, кажется, предшествует приятному головокружению от и вне понимания. Гест снова и снова описывает это чувство множественных обменов и их удовольствий, не из одной точки, но в выразительном разворачивании за пределами прямолинейной перспективы и прямолинейного Логоса.
Другой термин, который она использует для этого желаемого обмена, —
«взаимозависимость».
«Окна обычно независимы друг от друга, хотя вы можете переходить от одного вида к другому. Эта абсурдная взаимозависимость напоминает жаворонка на рассвете. Высоту принимает на себя верхнее окно. Песня жаворонка. Другое окно – жаворонок».
Обмены между этими несколькими элементами (окно, жаворонок, песня, рассвет, ты), наряду с взаимодействием противоположностей «независимого» и «взаимозависимого», которые приводят их к одновременному, взаимному потенциалу, имеют поразительное значение. Вместе эти обмены и взаимодействия создают одну из неиерархических сцен Гест, что помогает инсценировать стихотворение, место, в котором человек входит в чувствительность, субъективность и эмоциональный импульс множества материалов, пересекающихся на собственном миниатюрном композиционном поле действия, не менее убедительном от того, что оно состоит из знакомых лирических элементов, таких как рассвет и песня, и птица.
“Другое окно — жаворонок”: через это окно видно так же хорошо, как и через свое собственное. На самом деле, нет никакого «своего». Все доступно, все воздушно. Подвижность, эмпатия и небинарное мышление создают женскую версию женственности у Гест.
Движение «взад-вперёд» самого письма — параллельно движению «взад-вперёд» «тебя», изучающего это место. Ничто не стоит на одном месте, ни овеществлено, ни зафиксировано или обездвижено. Ничто в этой альба5-подобной сцене не отведено флегматичной, неприятной роли «матери» О’Хары. В конце концов, приятно осознавать, что такое возможно.
Процитированные работы
Крили, Роберт. «В дороге: заметки о художниках и поэтах, 1950‒1965 [1974]». Сборник очерков Роберта Крили. Беркли: Калифорнийский университет Press, 1989.
ДюПлесси, Рейчел Блау. Голубые студии: Поэзия и ее культурная работа. Тускалуса: Издательство Университета Алабамы, 2006.
Барбара Гест. Силы воображения. Беркли. Келси Сент-Пресс, 2003.
О’Хара, Фрэнк. «Персонизм». Любое удобное издание.
На обложке фотография Александра Фролова.
Telegram-канал автора
You may also like
- Человек в сексе втроём – слэнг. (пер)
- Образовательная организация в Нью-Йорке (пер.)
- картина Диего Веласкеса, написанная в 1656 году. (пер.)
- В «Голубых студиях», я переношу аргумент Беньямина и его собственное желание взгляда взаимного признания — в другое, хотя родственное направление, также связанное с гендерными подразумеваемыми положениями работы Гест, 162-64. (прим. автора)
- Утренняя песнь – жанр средневековой лирики, характерный для творчества трубадуров. (пер.)

Добавить комментарий