Поэтический текст происходит как совпадение, отвечающее на вопрос «кто говорит?». Это вопрос, который всегда встаёт при чтении и письме. За ним следуют вопросы «зачем говорит?», «почему?» и другие. Вместе с ответами на эти вопросы появляется всё остальное: лицо, речь, тело. Такое появление позволяет критические читать то, что пишется и то, что было написано, но при этом не отменяет возможности «любить» текст.
Максимилиан Неаполитанский
1.
Ну да, мы входим в парк Василеостровец,
хотя на самом деле возвращаемся в Брайдсхед,
где упавшие пионеры поднимают глаза к туману,
что стелется по вековой траве и меж
государственных флагов.
Так шумит отдаление с воспоминанием:
любовь меняет места живых.
Не что-то, а тишина руин, ты протягиваешь руку,
но в ответ получаешь воду, и
песчаный ветер тоже напомнит о дружбе.
Камень Зильс-Марии или Алоизий у берега
в спасательном жилете, летний маяк, хаги-ваги – что
из этого лежит в кармане? Похоже, и твой шаг
переносит росу через герб, чтобы перечеркнуть
зубы, чтобы сказать о забытом мячике в тот
вечер пятого дня рождения птицы,
которую мы слушали утром за
воображаемой игрой.
Мы, мы входим в Василеостровец,
здесь никого нет, и машины забыли город.
Смотрим на деревья, на монтаж случайности
в отсутствующих камерах. Бери парковое детство,
смещённого отца из экспедиции в Кардифф,
когда проигранный финал подарил хорошистов:
нас четверо, может, больше, и мы стоим у входа в пятый круг.
Флегма, привет, перемотка: покажи нож ворона
на кухне, выпавшей в чики-брики.
2.
Выключая у кровати лампу, похожую на опалённый
фантик смешной и сухой Дрохеды после
пожара, ты спросишь: интересно,
почему «Постлюбовь» такая стрёмная книга?
Не знаю, но это тоже тема, это страх, это
близнец аффекта, два брата из списка в египетской
кафешке, которую держат невидимые леваки,
ищущие, порой, как и мы, ходячий замок.
А он, он – здешний слепок руки мальчика в футболке Салаха
на турниках тонким утром,
которое рвалось остротой края пагоды, –
так вот, то есть близнец аффекта, когда немного стрёмно,
когда называют любимых авторов (Хайдеггер и Батай).
Ты слышала, что это между медведем и экономикой
немецких гор в эмалированном ведёрке, найденном
на въезде в советские Жадрицы (несвободный обманщик Пущин)
и столь близком к тому, чтобы запретить наше
внимание и его нестабильные поиски на очередном КПП.
Замри, как тот свет, на весь тот свет, выданный
в пустынном иссушении гудка поезда, проносящего
своё гладкое тельце через город-сад, через
негород-павловск (там табличка, там так и написано –
вот оно, подтверждение покатости лба и ребусов).
И знаешь: разваренное утро, дачный сон, как общими
усилиями заметить страшные мотоциклы Кяхты,
остановившись на ощущениях проверки – давно
на прокси закрыли наши влюбленные щёки.
3.
Ночью кто-то стучал в рукомойник, но сороки не приходили.
Это были не они, ведь гнездование — всё больше deep time
и deep gun, и лето выступает за глубину.
Ты посмеешься, типа август опадает и так — как когда-то
опадала наша геология, ну и. Топонимы будут —
Маяк, Ящера, Белый мох, река Омуга, и ничего не изменится.
Произношение: повторение стука,
в этих местах птицы наставили астму, просачиваясь крыльями
за руль, в осадки. Здорово, что ты прочитала это на упаковке,
они действительно верят, что новый сирул возникнет
из-за ошибки (увидеть комариных братьев),
его разбавленные взмахи — это воздух-ставленник,
и он хреновый водитель.
Теперь же, если восстанавливать траппы, климат и другие
приключения внутри родственной магмы, то следует напомнить:
мы похожи на спутниковую тарелку, над которой аисты
едят змей, создают семьи и вытекают в перерождение.
Когда на экранах появляется сиквел дуба,
тишина умеренного лета приобретает тень забывания —
снова железная палочка из детства стучит ради воды,
ради слияния с песней известной артистки.
4.
Знаешь, когда я подписался на группу «восток европы»,
я понял, где хочу встретить каменный дождь.
Допустим, это будет старое видео с «Курорта»
для настроения, сгоревший пластик для горла
или реклама у дома – «модно не значит дорого».
Как ни крути,
ужас феноменологии не прикольнее того рилса с
моментами, в которых жизнь ощущается иначе.
Например, последний день в школе или остановка
на ночной заправке. Или – смерть друга, сделанный
кадр ходьбы, прощание через
фильмографию несуществующей венгерской школы,
которая всё равно путает
сюжеты опоздавшего скоростного поезда.
Возможно, теракт с Невским экспрессом, чистка,
прибытие, назначение, продление, стратификация
или (наконец) отпускание. А возможно
то лето мы встречали на отдаленной станции
и на том фото была улица Ваци, рядом травинки
без земли делали копья
и пальцы знали, что таволгу собирают только
в соседнем парке, но перевод не остался
(встретить каменный дождь).
5.
Перед днём рождения я зашёл в чат,
который мы делали по поводу этого праздника
в прошлом году. Картины города похожи на реку,
на порванные изики внутри шестой велосипедной
скорости – и это тоже мы (в комнате без бровей),
это обедневший ангел истории на Ибице и его
чумной трек, как говорил друг,
«разрыв, капиталистический вечер».
Привет, мы будем после шести, на электричке
прямиком из Кунстхауса, который, как (если) ты
помнишь, призрачно наступал на лапы скамьи,
отображаясь в чате под ником супруга-благодетеля,
снимавшего наши тени и птицу, шаги и короткий
звук тома – то есть том и сам том, том – снимал на
старенький сяоми (привет, но рассылка не доступна).
В четырнадцать лет мы с ребятами сделали схему
спинозовской «Этики», сделали таблицу и территорию,
и бросали в неё ножечки, отсекая ненужные части природного
бога, это было причиной знакомства. Жемчуг в рюкзаке.
Может быть, ты сейчас выходишь на балкон, от которого проспект
получает зарплату, когда мы смотрим друг на друга, от
которого начинается путь на великах – по озёрным картам,
по минутной памяти в миске с земляникой и молоком,
среди лиц в вечернем свете после летнего праздника.
6.
Станция Боровая становится напоминанием о медленном лете,
которое мы читали в момент перехода на МТС, на
лучшее время, ведь на Боровой больше не
останавливается электричка, будто перебегающая
похороны птиц —
этот тоник пальцев в истории летнего дня.
На что похоже тело, которое в свободной
жаре не помнит об империи? Билет
скажет о медленном лете, в следующий раз мы
соберёмся на Каменном острове, мы будем звать
перечень по имени героев-астматиков.
Друзья приходят и улыбаются, у некоторых с собой пледы,
чтобы сидеть на траве, чтобы море не заполнило автостраду
и в антиитаку не пришло по рельсам разговора
о ферганской долине. На нескольких фотографиях
мы выглядим так, будто первый ридинг прошел
под знаком сожжения укрытия и усилия,
а киборг-ландшафт еще не поцеловал руки.
Боровая – медленное лето, это эпизоды воздухо-
плавательного парка, у которого любители письма
о жаре собирают микрофоны памяти, роняют их
между украденных ковриков, друзья ещё не хотят
расходиться в домашний жар и в оранжевые глаза
будущих невстреч, что озираются внутри акта чтения
по дороге до ближайшей колонки – той, что и в воде
оставляла пустынный сон, делая рот и питьё частью
редких заплывов в кишлачные звуки и тени. И тени,
возможно, принадлежали нам.
7.
Чтобы купить антологию американской поэзии, нужно
продать половину библиотеки – это две книги издательства
«Собачий Будапешт», одна книга о тропических супчиках
и где-то четыре небольших поэтических сборника, которые
дарили друзья среди опасных вечерних заморозков,
настигших нас на бумаге, но не в арке рядом с «Порядком слов».
Когда-нибудь эта антология дойдёт и досюда, и тогда
подозрительная тяга к пунктуации и прописным буквам
исчезнет, как сбитая температура после пяти ложек
арбузного сока, принятых между Нью-Джерси и центром
следующего штата, возможно, несуществующего, ведь
железная дорогая перестала работать ещё в семидесятых,
беспечно касаясь наушников и составляя слово «рагнарёк»
из опадающей листвы – грустный эрудит паспортной памяти.
У выхода. Ты говоришь, это самая бессмысленная ветка метро,
из постоянных пользователей только три человека, я
хорошо понимаю тебя и эту статистику – нелегко быть
одним из них, нелегко отдавать павильонам летний стаж
дружеских танцев, принтов, брошенных ашкудишек (где
моя курилка?) внутри аритмии и расписания электричек.
Хочу написать повесть, размышляешь ты, о перестрелках,
об уличной жизни и тренировках, я не вывожу, как же рэп?
Разгоряченные тела компании оставляют испарину на потолке
клуба, затем – так – получается дождь: мы поняли, что это
антропоцен, он ещё не свалился в момент очередного дропа
и долго смотрит через эти капли на любовь в тёмной
антропологии – короче, в местах, куда мы порой возвращаемся.
8.
На переходе ты слышишь просьбу о двадцати рублях.
Почему так? Он говорит через сломанную горсть
уличной политики: мосты – это плохо, а острова –
хорошо. Кажется, за этим должна следовать шутка,
но мы идём дальше, как будто остановка сулит опоздание
на будущий рейс и торопиться надо уже сейчас.
Но некуда, отсутствие в книжных магазинах лишь
ненадолго составит карту молчания, её перебьёт
воспаленный локус среди опадающих деревьев и
полицейских машин. Тут тоже можно перейти дорогу,
которая начинается на смешной эпитет «клюквенный».
Нет продолжения, и твоя камера ловит одинаковый свет
через дифракцию боли и первые заморозки. Площадь.
Посмотреть вниз, сто процентов быть другим, обломить
записи шутки. Не совсем помню цвета, куртка собирала
тени-набойки через страх имперских памятников –
летом их постаменты становятся местом для пиццы
и дружбы. Обратный билет рождает равенство, как
электричка и электрический самолётик внутри головы,
которая сбоит и падает в бутилированную воду,
но затем переливается в лужи. И становится уже не видно
слёз, не видно заметок на телефоне – и так хорошо в
темноте, всего лишь темнота осени, но не смена летнего
часа перед третьими петухами, когда утренняя жуть
размыкает линию твоего бега-письма и историй
после многолетнего расставания.
На обложке: «try click-dragging the moving cubes to change their path in space» by Torley
Лицензия: CC BY-SA 2.0

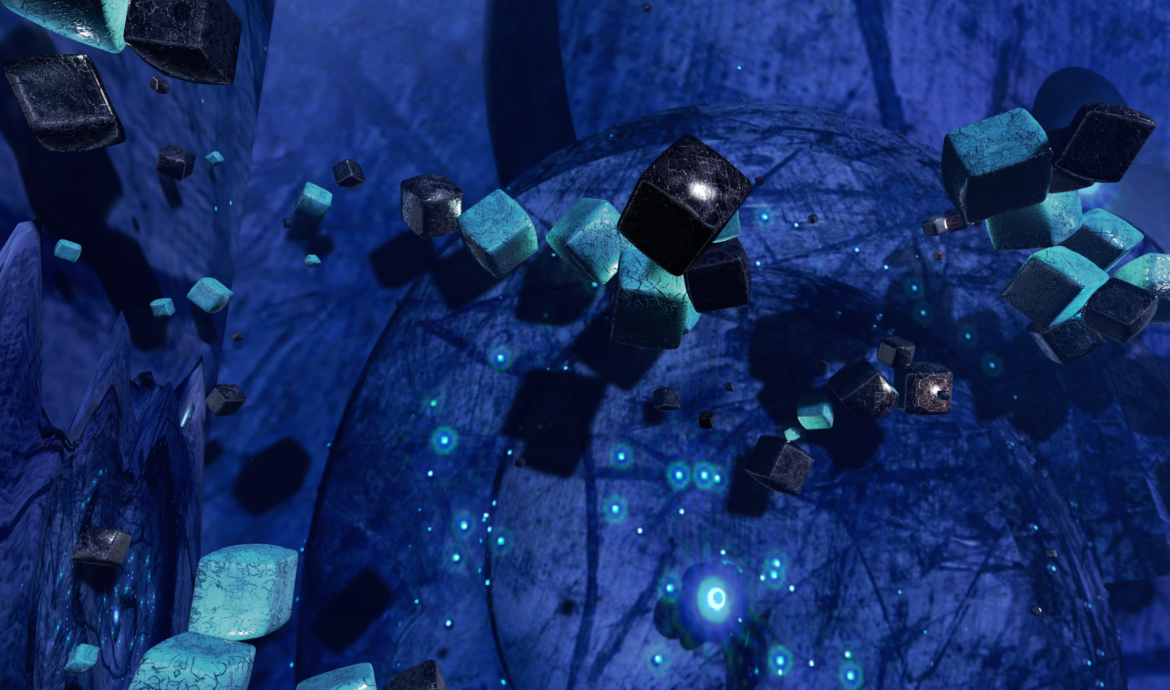
Добавить комментарий